Эмоции, манипуляции, растление — почему народ не способен понять политиков?
***
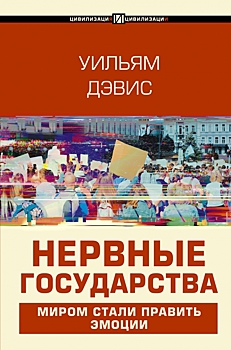
Уильям Дэвис. Нервные государства. М: АСТ, 2021
Чиновники и эксперты постоянно сетуют, что политика стала слишком эмоциональной, узколобой и злой. Эгоистичный народ не хочет принимать рациональные необходимые стране решения вроде сокращения социалки, повышения пенсионного возраста или спасения разорившихся крупных банков. Люди всё меньше верят признанным элитой холодным технократам и всё больше — накалённым популистам вроде Трампа или Корбина. Порой тёмная толпа и вовсе требует низового контроля, прямой демократии! Ясно, что следующим шагом будет ограбление богатых и социализм.
Политики увлеклись наклеиванием друг на друга ярлыков «манипулятора», «постправды», «иррациональности». Кажется, они не замечают, что недоверие вызывает система как таковая, и люди готовы поддержать любого, кто возьмётся её очистить или радикально перестроить (или хотя бы встанет элите поперёк горла). Борьба «технократов» с «популистами» и «авторитарными лидерами» показывает, что все они — одного поля ягоды: беспокойные, эмоциональные, манипулирующие фактами и мифами. Правящие элиты не могут даже сдержаться и не заявить, что «народ не тот», а реальная демократия опасна для государства.
И всё же за повсеместным возрождением клише про популистов, задействующих эмоции и толпу, скрывается фундаментальная проблема. Вряд ли люди в XXI веке внезапно оглупели и потеряли разум. Исследования воздействия информации и структуры массовых движений опровергают представления о банальном зомбировании масс. Народ протестует не потому, что его подкупили иностранные агенты, а потому, что чувствует боль и несправедливость. Элиты, уверовавшие, что всё контролируют, и эксперты, убеждённые, что всё знают, упустили нечто, очевидное для низов — и пробивающее теперь себе путь в политику через «Захвати», Трампа, протесты жёлтых жилетов и Black Lives Matter. Что это за неучтённый элемент и почему правящие круги не могут (или не хотят) его увидеть — выясняет британский социолог и профессор политэкономии Уильям Дэвис в книге «Нервные государства».
Автор показывает, что само деление на хороший разум и плохие эмоции, а тем более идея о правлении экспертов, основанном на статистике и научных фактах, утвердились довольно поздно и с течением времени корректировались. Только к XVII веку на Западе параллельное развитие буржуазии, науки и бюрократического государства выдвинуло на первый план количественный учёт («объективные факты») и занимающихся им людей. Сформировалось что-то вроде публичной сферы по Хабермасу: научные общества и торговцы выносили на суд общественности (на деле — узкого круга образованных людей) цифры и основанные на них теории.
Тем не менее, по мнению Дэвиса, решающим стал политический момент. С одной стороны, «факты» легли в основу доверительных торговых отношений. С другой — они легитимировали создание гоббсовского Левиафана, централизованного национального государства, монополизировавшего насилие и видение общего блага в признанных Вестфальским миром границах. Над борьбой частных интересов (грозившей междоусобицей и революциями) возвысился эксперт, оперирующий беспристрастными цифрами и фундаментальными законами, обеспечивающий общий прогресс.
Этот переход не был однозначным и бесконфликтным. Например, в медицине стремление докторов ставить диагнозы, скрывающиеся за внешними, доступными пациенту симптомами, до XIX века наталкивалось на неприятие. Врач Уильям Гарвей, экспериментировавший с телами и открывший кровообращение, подвергся шкалу критики и потерял клиентов. Лишь постепенно успехи медицины заставили людей доверять неочевидным решениям докторов. В колониях же Левиафан проявил свою пристрастность: статистика и учёт плохо схватывали особенности местного населения, а политика жёстко продвигала интересы метрополии. Собственно, как доказывал теоретик элит Ричард Лахман, централизованное управление на Западе утвердилось только к концу XIX века, за счёт привязки к крупному капиталу и широкой мобилизации в армию (в обмен на гражданство и социальную политику).
Именно империализму и крупному капиталу, а не массам и популистам, суждено было подорвать систему. С одной стороны, к ХХ веку тотальные государства стали рассматривать всё общество как ресурс в войне. Всеобщая мобилизация требовала поддержания морального духа (укреплявшегося или ослаблявшегося целенаправленной пропагандой); промышленность, наука и технологии составили военно-промышленный комплекс, достижение которого требовалось держать в секрете от врага. В эпоху холодной войны вперёд вышли разведка и контроль за информацией; идея получения абстрактных научных знаний вытеснялась идеей быстрого вытягивания уже имеющихся знаний из врага. С другой стороны, для крупных компаний наука стала большой статьёй затрат и инструментом для монополизации отрасли, так что знания утратили публичность. Открытость знаний и свобода дискуссий превратились из двигателя науки и основы легитимности в уязвимость для конкурентов. Что для государств, что для корпораций.
Переломным моментом оказался поддержанный капиталом неолиберальный поворот 1970-х годов. Фридрих Хайек и другие интеллектуалы утверждали, что экономика стала слишком сложной и тотальные государства в принципе не могут адекватно ею управлять. Технократы опирались на абстрактные знания, но упускали всю конкретику. В противоположность предприниматели и потребители обладали практическими знаниями, первыми чувствовали изменение ситуации. Рынок представлялся системой, собирающей эти распределённые конкретные знания, изменчивые предпочтения, обстоятельства — и выражающей их в цене. Экспертам нужны месяцы на сбор и анализ данных, в то время как цена компании может расти и падать в течение дня. Наконец, рынки работают, даже если ни один конкретный человек их не понимает!
Можно заметить, что неолибералы игнорировали известную со времён Маркса проблему: капиталистический рынок изначально асимметричен. Рабочие имеют меньше влияния, чем капиталисты. Конкурентные преимущества не исчезают, а накапливаются (благодаря увеличению масштаба, патентам, сговорам, монополиям). Потому эффективный рынок, стремящийся к равновесию, всегда являлся предметом веры, того же абстрактного теоретизирования, никогда не достигавшимся на практике.
Анализ Дэвиса даёт основания полагать, что Хайек осознавал эту проблему. Просто идеологи неолиберализма рассматривали рынок не как систему достижения «консенсуса», в духе XVII века, а как поле боя, в духе империализма века ХХ. Хайек рассчитывал, что конкуренция выкует новый узкий слой визионеров, способных к «творческому разрушению» и перекраиванию мира под себя. Он защищал и монополию (если она создана не политическим решением, а в результате победы на рынке), и наследование («общество скорее получит лучшую элиту, если возвышение не будет ограничено одним поколением, если индивидов не будут специально заставлять начинать с одного уровня»). Цель — не в истине, а в скорости, предприимчивости и стремлении к эффективности.
Иронично, что в те же годы получил распространение менеджеризм Роберта Макнамары — универсальная «математическая» методика управления, нацеленная на максимизацию прибыли независимо от сферы деятельности организации. Дэвис акцентируется на том, что неолибералы не просто меняли одних технократов на других, а меняли сам подход к знанию (закрытое, «военизированное») и легитимности (не согласие, а решение рынка). Просто рынок по факту обеспечивает всевластие меньшинства и маргинализацию большинства. Яркий пример: если раньше немногие эксперты открывали знания для многих людей, то в современных IT-корпорациях многие люди (пользователи) генерируют информацию для немногих экспертов (аналитиков данных, рекламодателей).
Историк Джерри Мюллер и антрополог Дэвид Грэбер показывают, что концепция каких-то особо чувствительных к изменениям и имеющих «практические» знания предпринимателей изначально не выдерживает критики. По факту капиталисты изначально были ухудшенной версией публичных «экспертов», которых спасала лишь закрытость! А также, как ни парадоксально, государственная поддержка: разбирая радикальные высказывания известного инвестора-«визионера» Питера Тиля, Дэвис напоминает, что одним из главных его активов является проспонсированная ЦРУ компания Palantir, собирающая и анализирующая данные для военных и полиции. Неудивительно, что неолиберальный курс не только не поставил рекордов развития экономики, но и породил невиданное неравенство, растущее с каждым новым спекулятивным пузырём.
Итого, вопреки мнимой чуткости рынка, неолиберализм окончательно оторвал управленцев от общества: корпорации и их экономисты, оказывающиеся что во Всемирном банке, что в правительствах, рассматривают всё через призму закрытости, жёсткой конкуренции, войны. Они хорошо понимают интересы капитала (по крайней мере, отдельных капиталистов), но с подозрением относятся к обществу. Политики борются за повышение средних показателей и ВВП, оставляя решать проблемы справедливости рынку.
В условиях растущего неравенства и сегрегации это создаёт издевательскую ситуацию: средний показатель увеличивается, но «выигрыш» от этого сосредотачивается наверху. Например, Дэвис указывает, что при номинальном росте средних доходов в США за последние 40 лет доходы нижних 50% не только не выросли, но и сократились на 1%! Из-за концентрации богатств даже в верхних 50% каждый индивид видит, что над ним есть узкая группа людей, богатеющих гораздо быстрее него — т. е. забирающих большую долю «пирога». Подобное резкое неравенство обнаруживается также между центром и периферией, регионами, полами, профессиональными и национальными группами населения. Более того, эти различия чётко коррелируют с результатами голосований за Трампа и за Brexit!
Вслед за исследованиями неравенства Йорана Терборна Дэвис подчёркивает, что различия не сводятся к деньгам. Автор приводит поразительную статистику по США, показывающую, что менее обеспеченные люди (особенно вне крупных городов) гораздо чаще испытывают постоянные боли, подвержены посттравматическому стрессовому расстройству (особенно часто — у девочек-подростков!) и иным психическим заболеваниям; их ожидаемая продолжительность жизни разительно ниже, а смертность — выше. Исследования распространения ПТСР среди мирных жителей показали, что низы особенно болезненно переживают отсутствие контроля над своей жизнью.
Отчёты элит о «вставании с колен» входят в резкое противоречие с субъективным ухудшением жизни значительной части людей. Принимаемые за закрытыми дверьми решения вроде спасения крупных банков после кризиса 2008 года также не помогают делу. Если Гоббс в «Левиафане» видел в государстве гаранта физической, телесной безопасности людей — то теперь технократы кажутся (и действительно являются) равнодушными к человеческой боли. Доверие к экспертам падает везде, кроме институтов, связанных с непосредственным уходом и безопасностью — медсестёр, нянь, армии (по крайней мере, в некоторых странах). В свою очередь, верхи всё больше нервничают из-за непонятной исходящей снизу неприязни.
Собственно, популисты оказываются успешными тогда, когда адресуются к этой живой человеческой боли, ощущению несправедливого «проигрыша» в рыночной гонке. Эмоции здесь отражают не какие-то странные иррациональные импульсы, не являются результатом внушения — они рождаются из действительного ухудшения условий жизни, вплоть до прямого чувства боли из-за разрушения доступной медицины или тяжёлого труда. Эндрю Скотт и Линда Граттон, исследовавшие проблемы долголетия, предсказывают, что ситуация станет только хуже. Дополнительные годы для низших классов в неравном обществе, сокращающем социальные расходы, рискуют превратиться в ад — в то время как богатые станут жить не только заметно дольше, но и в прекрасном здоровье.
Однако Дэвис с неожиданным скепсисом рассматривает левые требования прямой демократии и даже свободных публичных дискуссий. Вместо этого он предлагает провести квазивоенную мобилизацию народа для борьбы с изменениями климата, в которой найдётся место и государству, и экспертному авангарду (теперь уже открыто идеологизированному и страстному, как при революции), и общественным движениям. Если задействовать технологии социальных сетей и анализа больших данных, то можно создать «мировую нервную сеть», позволяющую если не достичь консенсуса, то скоординировать различные точки зрения (вероятно, с помощью таргетированной рекламы?) и подвигнуть их к общему действию. Здесь автор явно опирается на упрощённую картину и мобилизации перед Первой и Второй мировыми войнами, и перехода от мобилизации к государству всеобщего благосостояния. Дэвис вообще забывает о роли низовой самоорганизации, социалистических партий и угрозы СССР в процессах ХХ века. Всё-таки, как показано в истории государств Лахмана, мобилизация достигалась социальными и политическими преференциями/обещаниями более-менее организованным массам. Эрик Хобсбаум упоминает, что в письмах домой солдаты Первой мировой беспокоились об успехах социалистов — грозившихся взять власть. В общем, ситуация была гораздо сложнее и накалённее, чем предполагается в централизованной борьбе за экологию.
Более правдоподобным кажется совет Дэвиса сосредоточиться на простых, реалистичных, но универсальных (распространяющихся на всех) и радикально меняющих жизнь решениях, вроде безусловного базового дохода: пусть он не устранит накопившиеся противоречия, он понятен гражданам, даст очевидное облегчение угнетённому большинству, при этом удовлетворит чувство равенства и справедливости. Как минимум такие действия должны переломить тренд на недоверие политикам.
Остаётся непонятным, впрочем, как всё это соотносится с существующими элитами? В чём смысл бросать обществу «подачки» вроде ББД, если стратегически ты не собираешься действовать в его интересах? Или же Дэвис в тайне надеется, что, начав радикальные реформы, политику уже не смогут повернуть вспять? Впрочем, с большой натяжкой можно сказать, что пришедший на смену Трампу Байден пытается разыграть карту борьбы с экологической угрозой (при увеличении социальных трат) для какого-то национального единения. Опять же, если корнем проблемы является развитие капитализма — что должны дать эти временные меры? Дэвис предостерегает от попытки вернуться в прошлое (ведь все противоречия сохранятся), но, по сути, предлагает именно это.
Так или иначе, книга реабилитирует эмоциональный и порой слишком прямолинейный протест людей против системы. Если завязанные на капитал лидеры не могут на него ответить и вместо этого ругают народ и его избранников за «иррациональность» и «эгоизм» — то докопаться до корней недовольства должен кто-то другой. Дэвис, критикуя капитализм, даёт для этого много полезного материала.