Михляев был обыкновенным дельцом — расчетливым и холодным
Третья часть главы о казанском промышленном магнате Иване Михляеве из книги Алексея Клочкова "Казанский посад: стены и судьбы"

В новой части книги "Казанский посад: стены и судьбы" Алексея Клочкова, в главе об Иване Михляеве — о том, каким был уроженец села Русские Алаты, как он хитро занимался "мироедством" для развитии шерстяного бизнеса.
Итак, знаменитый казанский промышленник Иван Афанасьевич Михляев происходил из села Русские Алаты, что в современном Высокогорском районе Татарстана. Жителями основанной в 1558 году Алатской крепости (впоследствии — село Русские Алаты) были служилые люди, обеспечивавшие контроль над окрестными татарскими и марийскими селениями, а также безопасность путников на Алатской торговой дороге. Долгое время, до начала пароходства и эры железных дорог, село играло важное значение, так как через него дорога из Казани шла на север в сторону Галича в Костромскую землю, а также соединяла Казань с Вятским краем. В первые годы XVIII столетия статус жителей Русских Алат изменился, и они перешли в состав государственных крестьян.
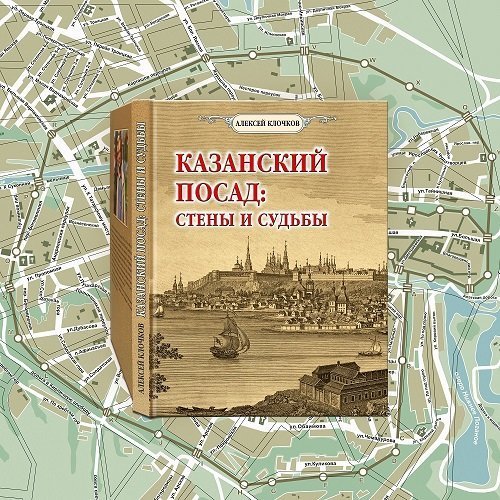
Главным украшением села до сих пор остается двухпрестольная Успенская церковь в стиле барокко, построенная в 1712 году на средства Ивана Афанасьевича. В 1896—1898 гг. церковь была перестроена на деньги казанского купца Зиновия Баженова, тоже выходца из Алат. После расширения церковь выглядит несимметрично, но в ней легко угадываются первоначальная форма и более поздняя пристройка. В храме было по меньшей мере семь особо значимых икон, с каждой из которых были связаны легендарные истории. Наиболее почитаемой была Казанская икона Божией Матери, обретенная в начале XVIII века на ключе у деревни Малый Починок. 29 июня ежегодно проводился крестный ход на место обретения иконы, собиравший множество богомольцев. Интересно, что Алатская церковь никогда не горела, и среди сельчан она до сих пор почитается "родовым храмом семейства Михляевых".

Кем были предки Ивана Михляева, сегодня мы едва ли узнаем: возможно, что "служилыми людьми", но вероятнее всего, крестьянами. На рубеже XVII—XVIII столетий в России появилась особая группа торгующих крестьян, многие из которых разбогатели и стали миллионерами. Они откупались от своих помещиков, переходили в другие сословия и часто давали стране целые династии предпринимателей и меценатов. Первую реальную возможность "выбиться в люди" крестьяне получили во времена ураганных реформ Петра Великого. Царь-реформатор вообще славился своим умением находить одаренных людей в разных социальных слоях, при этом не обращая внимания на то, что найденный им очередной "самородок" едва умеет читать и писать — главным требованием было желание учиться уму-разуму и приносить пользу государству.

Одним из таких "самородков" оказался уроженец Русских Алат (последние благодаря своему особому статусу и выгодному положению к концу XVII столетия стали экономически развитым административным центром), будущий крупнейший казанский купец и промышленник Иван Афанасьевич Михляев. Торговля пушниной с татарами, башкирами и народами Западной Сибири (подчас откровенно грабительская) позволила ему войти в купечество, и он, поставив под контроль заготовку пушнины в Приуралье и Сибири, стал одним из основных ее поставщиков на главную ярмарку России — Макарьевскую, под Нижним Новгородом. То, что не удалось продать "на Макарии", купец вывозил в Москву или на Свинскую ярмарку под Брянск. Связавшись с Западом через Архангельск и с Востоком через Астрахань и Кяхту, он начал со скупки мелких партий пряжи, сала, шерсти и в считаные годы довел свои обороты до десятков тысяч рублей. В одном только Архангельском порту у И.А. Михляева в 1701 году было товаров "на 24000 рублев с небольшим". Имея огромный штат приказчиков во многих городах России и Сибири, он в конце концов потерял счет своим деньгам. "А что тех вышеписаных товаров городского и астраханского торгов, — сообщал он, например, в 1703 году, — на Москве и в иных городах продавали на деньги и в долги отдавали насколько и кому имяны люди мои и прикащики, того мне сказать имянно невозможно, на Москве и в иных городах живут за тою продажею и за долгами многое время и те долговые деньги выбирают они, а ныне те люди мои и прикащики в рассылке для торгового моего промыслу у г. Архангельска, в Астрахани и в сибирских городах" (РГАДА, Монастырский приказ, св. 222, д. 104, л. 7).
Весьма интересно, что подобно многим современным толстосумам, Иван Афанасьевич не любил расставаться со своими деньгами и всегда старался получать от казны и иностранцев под поставки юфти, шерсти или вина деньги вперед, а товары же, напротив, брать в долг. Так, под поставки вина, которое он продавал "в Казань и в Астрахань, и в иные города и села... по 25000 ведер и больши, и меньши", И.А. Михляев получал из казны "тысячи по 3 по 4 и больши, и меньши". "Теми деньгами, — писал он, — в отпусках в вышеписаных товарах своих для управления своего промыслу покупаю товары и как из товаров обращаются деньги и к тому винному куренью хлебные и всякие припасы, что к тому надлежит, покупаются" (РГАДА, Монастырский приказ, св. 222, д. 104, л. 8). На наличные деньги И.А. Михляев покупал товары, главным образом на местных рынках, предпочитая опять-таки брать их в долг у купцов (особенно иностранцев) и расплачиваться с ними только после продажи товара. В 1700 году такого долга за ним числилось: "англичанину Даниле Кареле 1091 рубль, немцу Ивану Говарсу 228 рублей 8 гривен и голландцам — Христофору Брандту 160 рублей 11 алтын, Ивану Любсу 1816 рублей 29 алтын, Андрею Звениребелю 1175 рублей, Елисею Клюву 5042 рубля".

Не успел он к 1702 году рассчитаться со старыми долгами, как набрал новых товаров — "у Ивана Любса на 616 рублей 2 алтына (да по заемному письму 2150 рублей), у Христофора Брандта на 450 рублей 25 алтын, у Видима Балемы на 683 рубля, у Владимира Фингевера на 450 рублей 20 алтын 4 деньги, у Николая Фаруфа на 817 рублей 20 алтын 2 деньги" (РГАДА, Монастырский приказ, св. 222, д. 104, л. 8). Таким вот, оказывается, был любезный наш Иван Афанасьевич "мироедом". Тем не менее не будем судить его слишком строго — распространенность торговли в долг в те времена объясняется (помимо известной купеческой жадности) еще и тем, что при тогдашней крайней медленности товарооборота и отсутствии банков купец не всегда располагал свободными наличными средствами.
В первые годы XVIII века, умело воспользовавшись благоприятными экономическими условиями, которые сложились в России в правление Петра I, Иван Афанасьевич стал сочетать свои торговые операции с промышленной деятельностью. Так, торгуя через Архангельский порт юфтью и кожевенными товарами, он одновременно организовал кожевенные заводы для обработки сырья (в Казани и Алатах), торгуя вином, опять же завел свои винокуренные заводы (в Алатах и Свияжском уезде), и наконец, ведя оптовую торговлю шерстью и сукном (и даже поставляя овечью шерсть на экспорт — голландцам Христофору Брандту и Ивану Любсу), в первые годы XVIII столетия (судя по документам — в промежутке между 1705 и 1709 годами) основал в Казани собственную суконную фабрику, и притом — без какой-либо поддержки правительства.

Открытие суконной фабрики И.А. Михляева за несколько лет до организации в Казани казенного "шерстяного завода" (1714) многим историкам может показаться откровением, но на это указывает содержание уникальных документов начала XVIII века, приведенных в научной статье историка А. Максимова "Суконные мануфактуры в XVIII столетии", вышедшей в свет еще до войны, в далеком 1935 году (Журнал "Историк-марксист", № 8–9). Этим материалом (посвященным не столько нашей Казани и И.А. Михляеву, сколько развитию отечественного суконного производства в целом) со мной поделился мой двоюродный брат, проживающий в первопрестольной и на протяжении многих лет проработавший в столичных архивах. Между прочим, историю развития суконного дела в нашем городе А. Максимов показывает в совершенно новом ключе (непривычном для казанцев), сам же Иван Афанасьевич в его видении предстает отнюдь не былинным героем (каким его частенько рисуют у нас), а обыкновенным дельцом — расчетливым и холодным: в меру — алчным, в меру — подлым, в меру — вероломным, в меру — хитрым, в меру — жестоким и в меру — богобоязненным.